Взрыв на Юнион-сквер. — Эмма и Бен едут в турне. — Усердная полиция Сан-Франциско. — Митинг о патриотизме как поле боя. — Рукопожатие солдата. — Самый адекватный социалист и встреча с Джорджем Петтибоуном. — Проблема с залами в Орегоне и протекция бывшего сенатора. — Бувалда идет под трибунал. — Бен и его недостатки. — Недружелюбный Нью-Йорк. — Подготовка к турне в Австралию. — Митинг на Купер Юнион, новые аресты. — Ужасное признание Бена.
В то время как мои митинги запрещали в Чикаго, Саша подвергся таким же гонениям на востоке страны. Его лекции были сорваны в нескольких городах Массачусетса, а демонстрации безработных на Юнион-сквер, которые он возглавлял, разгонялись полицией.
Я переживала за Сашу и телеграфировала ему, что, если нужно, я вернусь в Нью-Йорк. На следующее утро я прочитала в газетах, что на Юнион-сквер взорвалась бомба и Александра Беркмана арестовали по подозрению в причастности к теракту. Я забыла наши разногласия. Саша попал в беду, а меня нет рядом, чтобы помочь и подбодрить! Было решено срочно ехать в Нью-Йорк. Но прежде чем я успела это сделать, пришла телеграмма, в которой Саша сообщал, что власти пытались обвинить его в происшествии на Юнион-сквер; когда им это не удалось, ему инкриминировали «подстрекательство к мятежу». Это обвинение тоже было снято из-за отсутствия доказательств. В письме говорилось, что мне не о чем волноваться и что единственной жертвой трагических событий на Юнион-сквер стал молодой товарищ Селиг Силверштейн, кроткий малый, который сильно пострадал. Парня покалечило взрывом, а после он подвергся пыткам в полицейском управлении. От пережитых физических и моральных страданий Силверштейн скончался. Сашин рассказ о жестокости полиции и товарище, который смело и стойко держался до конца, разжег во мне ненависть к аппарату власти и его организованному насилию. Это укрепило мою решимость бороться до последнего вздоха.

Взрыв на Юнион-сквер

Селиг Силверштейн после взрыва
Прежде чем я отправилась в Калифорнию, Бен попросился со мной в турне. У него достаточно средств, чтобы оплатить дорогу, уверял он. Он будет помогать в организации митингов, продавать литературу или делать еще что-нибудь, только бы оставаться подле меня. Это предложение вызвало у меня радостное предвкушение. Как чудесно иметь спутника в долгих изматывающих поездках по стране, особенно если это любовник, компаньон и управляющий. И все же я сомневалась. Мои лекции, за вычетом моих собственных расходов, приносили лишь небольшие деньги для Mother Earth. Я едва ли могла позволить себе дополнительные траты, а я не хотела принимать помощь Бена без возможности поделиться выручкой. Была и еще одна причина: мои товарищи. Они старались быть полезными, хоть и не всегда успешно, и они непременно сочтут Бена чужаком. Он был выходцем из другого мира, помимо этого, он был импульсивен и не всегда тактичен. Стычки были неизбежны, а мне и так приходилось решать слишком много проблем. Это был трудный выбор, но потребность в Бене, в том, что могла мне дать его первобытная натура, была непреодолима. Я решила взять его с собой, остальное как-нибудь образуется.
Сидя рядом с Беном в мчащемся поезде, чувствуя его горячее дыхание на своей щеке, я слушала, как он читает свои любимые строки Киплинга:
Я сижу и смотрю на море,
Пока не начинает казаться,
Что в мире кроме нас никого нет.
«Кроме нас, моя голубоглазая мамочка», — прошептал он.
Было ли это началом новой главы в моей жизни, задумалась я. Что она мне принесет? Все мое существо было пронизано чувством комфорта и безопасности. Я блаженно закрыла глаза и прильнула к своему возлюбленному. Это была новая огромная сила, и я знала: она пришла, чтобы остаться.
Митингами в Сан-Франциско занимался мой друг Александр Горр. Я чувствовала себя в безопасности, не ожидая проблем там, где не сталкивалась с ними раньше.
Впрочем, я не учла амбициозности начальника полиции Сан-Франциско. Быть может, зависть к лаврам коллеги с востока заставила шефа Бигги желать такой же славы. Он прибыл на станцию самолично на огромном автомобиле в сопровождении свиты из офицеров. Все они набились в машину и покатили за повозкой, везущей нас с Беном и Горром в гостиницу «Сан-Френсис». Там шеф Бигги оставил четырех сыщиков присматривать за мной.
Помпезность моего прибытия в отель вызвала беспокойство руководства и любопытство гостей. Не в силах понять подобное благоговение, я повернулась за объяснениями к Горру.
«Ты что, не знаешь? — сказал он с невозмутимым лицом. — Ходят слухи, что ты приехала в Сан-Франциско, чтобы взорвать американский флот, стоящий в гавани». «Оставь свои нелепые выдумки, — отозвалась я. – Ты ведь не думаешь, что я действительно в это поверю?» Но он утверждал, что Бигги всерьез хвастался, будто сможет защитить флот «хоть от тысячи Эмм Гольдман». Мой друг предусмотрительно забронировал мне комнату в респектабельной гостинице; человека, живущего в подобном месте не станут подозревать в связях с бомбистами. «Не важно, что подумают люди, — возразила я. – Здесь слишком шумно и вульгарно, я не вынесу необходимости протискиваться сквозь толпу богатых пошлых людей». Бедный Горр выглядел удрученным; ему пришлось идти искать другое жилье.
Тем временем меня не оставляли в покое. Нас осаждали репортеры с фотоаппаратами, снимающие без разрешения и задающие бесконечные вопросы. Главное, что их интересовало, правда ли я приехала взрывать флот.
«Зачем тратить бомбу? — ответила я. – Что я хотела бы сделать с флотом, со всеми военно-морскими силами и армией, так это сбросить их в пропасть. Но раз уж я не в силах этого сделать, я приехала в Сан-Франциско, чтобы доказать людям бесполезность вооруженных сил и военных расходов, не важно, морских или сухопутных».
Мой друг вернулся в полночь. Он нашел жилье, хотя и очень далеко от города. Это был коттедж Джо Эдельсона, в котором было достаточно места для нас с Беном. Джо был отличным товарищем, и я была рада возможности сбежать из гостиницы «Сан-Френсис», как бы далеко мне ни пришлось идти. Мы втроем, подхватив багаж, сели в такси и отправились в дом Джо в сопровождении машины с четырьмя сыщиками. Мужчины в штатском дежурили возле здания до утра, затем их сменила конная полиция. Так продолжалось на протяжении всего пребывания в городе.
Как-то раз Бен повел меня в Президио, военный лагерь в Сан-Франциско. Он знал главного врача местной больницы: они работали вместе во время землетрясения, Бен помогал ухаживать за пациентами. За нами следили до самых дверей госпиталя, но мы получили удовольствие от вида физиономий сыщиков, оставшихся снаружи, тогда как противницу милитаризма Эмму Гольдман принимал и водил по палатам главный врач.
Мои митинги были настоящим полем боя. Улицы перекрывались пешим и конным оцеплением, а также машинами. Зал был набит стражами порядка, а сцена окружена полицейскими. Естественно, армия людей в униформе сделала рекламу нашим митингам куда больше, чем мы ожидали. Зал вмещал пять тысяч человек, и оказался слишком мал для толпы, настойчиво пытавшейся войти. Очереди выстраивались за несколько часов до начала лекций. Ни разу за годы турне, если не считать демонстрацию на Юнион-сквер в 1893 году, я не видела толп столь нетерпеливых и взбудораженных. И все благодаря грандиозному фарсу, устроенному властями за счет налогоплательщиков Сан-Франциско.
Самый интересный митинг прошел в воскресенье днем, когда я выступала по теме
«Патриотизм». Толпа людей, пришедших на митинг, была такой огромной, что двери зала закрыли очень рано во избежание давки. Атмосфера была пропитана ненавистью к полицейским, которые горделиво фланировали перед собравшимися. Мое собственное терпение было на пределе из-за проблем, спровоцированных властями, и я шла на митинг с намерением выразить свой протест в недвусмысленных выражениях. Вглядевшись в возбужденные лица толпы, я поняла: большого воодушевления, чтобы спровоцировать людей на насилие, от меня не потребуется. Даже недалекого ума Бигги хватило, чтобы понять настроение момента. Он подошел просить, чтобы я успокоила толпу. Я пообещала при условии, что он уберет часть своих людей из зала. Он согласился и приказал офицерам выйти. Они промаршировали прочь, как провинившиеся школьники, под насмешки и улюлюканье толпы.
Тема, которую я выбрала для выступления, была весьма актуальной из-за патриотической чуши, которой были полны газеты Сан-Франциско в последние дни. Присутствие такого количества зрителей подтверждало, что это был правильный выбор. Людям определенно хотелось услышать иную версию националистического мифа. «Мужчины и женщины! — начала я. — Что такое патриотизм? Это любовь к родине — месту, с которым связаны детские воспоминания и надежды, мечты и чаянья? Месту, где мы с ребяческой наивностью смотрели на проплывающие облака и удивлялись, почему мы не можем парить так быстро? Месту, где мы считали миллиарды мерцающих звезд, трепеща от ужаса, как бы каждая не оказалась глазом, пронзающим наши маленькие души? Родина — это место, где мы слушали пение птиц и мечтали о крыльях, чтобы улететь в дальние страны? Или место, где мы сидели у мамы на коленях, с упоением слушая истории о великих подвигах и завоеваниях? Словом, это любовь к месту, каждый дюйм которого вызывает милые сердцу воспоминания о счастливом, радостном, озорном детстве?
Если бы это было так, немногих нынешних американцев можно было бы назвать патриотами, поскольку место для игр превращено в фабрику, завод или шахту, а пение птиц заглушил шум машин. Мы больше не слышим сказок о великих подвигах, ведь истории наших матерей сегодня полны горя, скорби и слез.
Тогда что же такое патриотизм? «Сэр, патриотизм — это последнее прибежище негодяя», — сказал доктор Джонсон. Лев Толстой, величайший антипатриот нашего времени, определяет патриотизм как принцип, оправдывающий подготовку массовых убийств, как работу, требующую лучших орудий для уничтожения людей, чем для производства таких необходимых вещей, как обувь, одежда и дома, как сделку, которая сулит большие прибыль и почет, чем честный труд».
Прервавшие меня громовые аплодисменты свидетельствовали, что пять тысяч человек разделяли мои идеи. Я продолжила анализ истоков, природы и значения патриотизма, а также его ужасной цены для каждой страны. По окончании моей часовой речи, произнесенной в напряженной тишине, меня словно накрыла буря, и я оказалась в толпе мужчин и женщин, жаждущих пожать мне руку. Голова кружилась от возбуждения, я не понимала, что мне говорят. Внезапно я заметила высокую фигуру в униформе: это был солдат, протягивающий мне руку. Я пожала ее прежде, чем успела понять, что происходит. Когда публика это увидела, эмоции хлынули через край. Люди бросали в воздух шляпы, топали ногами и кричали в исступленной радости от зрелища Эммы Гольдман, пожимающей руку солдата. Все произошло так быстро, что я не успела даже спросить имя этого человека. Он сказал лишь: «Спасибо вам, мисс Гольдман», — и исчез так же незаметно, как появился. Это было драматичное завершение драматичной ситуации.
На следующее утро я прочла в газетах, что за солдатом, вышедшим с митинга Эммы Гольдман, сыщики в штатском проследили до Президио и там доложили о нем военному руководству. Позже пресса рассказала, что солдата звали Уильям Бувалда, армейские власти поместили его под арест и ему грозит военно-полевой суд «за посещение митинга Эммы Гольдман и за то, что он пожал ей руку». Это звучало абсурдно, тем не менее мы поспешили организовать комитет в его защиту и сбор денег на процесс. После этого я с Беном уехала в Лос-Анджелес.
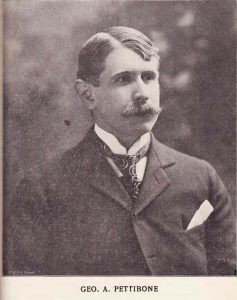
Джордж Петтибоун
Самым интересным в этом городе, за исключением массовых и оживленных митингов, были дебаты с социалистом Клодом Ридлом и встреча с Джорджем Петтибоуном. Ранее мне приходилось участвовать в дебатах со многими социалистами, но на этот раз мой оппонент оказался самым беспристрастным из всех. В глазах его товарищей это было преступлением, и он был немедленно исключен из партии. Какое интересное и примечательное совпадение, что американский солдат и социалист одновременно попали в немилость за то, что имели дело с Эммой Гольдман.
Джордж Петтибоун, Чарльз Мойер и Уильям Хейвуд стали жертвами заговора по уничтожению Западной федерации шахтеров. Владельцы шахт в Колорадо годами вели жестокую, но безрезультатную войну против этой рабочей организации. Когда они поняли, что дух профсоюза не сломить, а лидеров невозможно запугать или подкупить, они изыскали иные способы уничтожить их. В феврале 1906 года эта троица была арестована в Денвере по обвинению в убийстве бывшего губернатора Штойненберга. Диктат власти и капитала был настолько сильным, что заключенных моментально вывезли в Бойсе без малейшей видимости законности; билеты на поезд и бумаги для экстрадиции были готовы еще до ареста. Единственное доказательство против обвиняемых было предоставлено шпионом Пинкертона Гарри Орчардом.
Год их жизнь висела на волоске. Пресса дружно подстрекала власти Айдахо послать этих троих на виселицу. Тон в этой травле задавал президент Рузвельт, который заклеймил Мойера, Хейвуда и Петтибоуна как «нежелательных граждан».
Немедленная и целенаправленная кампания трудовых и радикальных организаций по всей стране разрушила планы владельцев шахт. Анархисты играли активную роль в этой агитации, отдавая все силы и средства, чтобы спасти обвиняемых. Я выступала с рассказом об этом случае по всей стране, а Mother Earth заявила о невиновности арестованных и призывала рабочих, если потребуется, объявить всеобщую забастовку, чтобы спасти товарищей от петли. В день, когда обвинения были сняты, коллектив Mother Earth телеграфировал Рузвельту: «Нежелательные граждане победили. Возрадуйтесь». Так мы выразили презрение к человеку, который присоединился к этой своре гончих, несмотря на то, что был президентом.
У меня не было возможности познакомиться ни с кем из троих ни перед судом, ни после. В Лос-Анджелесе я узнала, что Петтибоун жил здесь в полном уединении, а его здоровье было подорвано тюрьмой. Услышав о моем приезде, он прислал друга с сообщением, что уже много лет мечтает со мной познакомиться.
Я застала Петтибоуна едва ли не при смерти, но живой интерес к борьбе трудящихся все еще светился в его глазах. Он говорил о многом, в том числе и о судебном убийстве в Чикаго в 1887 году, которое сыграло важную роль в пробуждении его мятежного духа, как и моего. Он рассуждал о событиях, которые должны были стать новым 11 ноября, а вместо этого превратились в памятную дату рабочего движения. Он поведал о множестве столкновений с «пинкертонами» и рассказал, как потешался над их трусостью и глупостью. Он рассказал, как власти пытались настроить его против товарищей. «Подумать только! — возмущался Петтибоун. — Они апеллировали к моим деловым интересам и подкупали возможностью освободиться и процветать. Откуда этим морально убогим созданиям было знать, что я предпочту тысячу раз умереть, чем нанести малейший вред товарищам».
В Портланде, штат Орегон, нас встретило известие, что владельцы двух залов, забронированных под мои лекции, — Ариона, принадлежащего немецкому обществу, и Юношеской христианской ассоциации — отказали в последний момент. К счастью, в городе было много людей, для которых право на свободу слова не было пустым звуком. Главным среди них был бывший сенатор Чарльз Эрскин Скотт Вуд, выдающийся юрист, писатель, художник, человек, оказывающий определяющее влияние на культурную жизнь города. Это был импозантный обходительный мужчина, борец за свободу в истинном смысле слова. Он принял активное участие в подготовке и аренде этих залов и был огорчен, что владельцы пошли на попятный. Чарльз пытался успокоить меня, сообщив, что общество Ариона можно привлечь к юридической ответственности, так как они подписали договор на аренду. Услышав, что я никогда не использовала закон против других, хотя закон часто использовали против меня, мистер Вуд воскликнул: «Так вот ты какая, опасная анархистка! Раз я тебя раскрыл, нужно поделиться этой тайной с другими. Мне придется убедить их познакомиться с настоящей Эммой Гольдман». В течение нескольких дней он не только представлял меня различным людям, но также вдохновил мистера Чапмана, редактора Oregonian, написать о моих лекциях, а преподобного доктора Эллиота, священника-унитария, предложить церковь для моих выступлений. Вуд побудил множество известных мужчин и женщин города публично высказаться в защиту моего права быть услышанной.
После этого все пошло как по маслу. Появился зал, митинги посещала многочисленная представительная публика. Мистер Вуд председательствовал на моей первой лекции и сказал воодушевляющее вступительное слово. С такой поддержкой я бы захватила внимание своих слушателей, даже если бы была менее взбудоражена. В тот вечер меня переполняли эмоции из-за новостей об обращении с Уильямом Бувалдой, опубликованные в утренних газетах. Он был осужден трибуналом, уволен из армии, понижен в звании и приговорен к пяти годам военной тюрьмы на острове Алькатрас. И это невзирая на положительные отзывы вышестоящих офицеров, подтверждавших, что Бувалда был примерным солдатом армии Соединенных Штатов на протяжении пятнадцати лет. Это суровое наказание было дано мужчине, чье преступление состояло лишь в том, что, по словам генерала Фанстона, солдат «посетил митинг Эммы Гольдман в униформе, аплодировал ее выступлению и пожал руку этой опасной анархистке».
Темой моей лекции на этот раз был «Анархизм». Трудно найти аргумент лучше, чем беспредел государства по отношению к Уильяму Бувалде, государства и его военной машины, от которой невозможно защититься или сбежать. Моя речь была пламенной, она зажигала даже тех зрителей, которые пришли из любопытства. В завершении лекции я призвала к немедленному созданию кампании по формированию общественного мнения против приговора Бувалде. Собрание щедро отозвалось пожертвованиями и обещаниями организовать деятельность по скорейшему освобождению солдата. Мистера Вуда выбрали казначеем, и значительная сумма денег была собрана прямо на месте.
Аудитория митингов росла, собирались представители всех социальных слоев: адвокаты, судьи, врачи, писатели, светские дамы и фабрикантки приходили узнать правду об идеях, которые им внушали бояться и ненавидеть.
С успехом проведя митинги в Сиэтле и Спокане, мы отправились в Бьютт, штат Монтана. Эта поездка предоставила мне возможность увидеть западных фермеров и индейцев в резервациях. Монтанский фермер мало отличался от собрата из Новой Англии. Мне он показался таким же негостеприимным и прижимистым, как те, у которых мы с Сашей когда-то собирали заказы для Феди на портреты пастелью. Монтана считается одним из самых красивых штатов, ее почва намного богаче и плодороднее неподатливого дерна Новой Англии. И все же эти фермеры были злыми, жадными и подозрительными к незнакомцам. Индейская резервация показала мне последствия владычества белого человека. Истинные аборигены Америки, когда-то хозяева обширной территории, простые и крепкие люди, обладающие своим искусством и пониманием жизни, превратились в тень того, чем когда-то были. Они страдали от венерических заболеваний, их легкие пожирала «белая чума». Вместо своей утраченной силы они получили в дар Библию. Добродушные и отзывчивые индейцы очень радовали меня после недружелюбия их белых соседей.
Турне, более насыщенное событиями, чем обычно, подходило к концу, я возвращалась в Нью-Йорк. Бен остался в Чикаго повидаться с матерью и собирался приехать ко мне осенью. Было больно расставаться после четырех месяцев близости. Всего четыре месяца назад это поразительное существо появилось в моей жизни, а я уже чувствовала его каждой клеткой, снедаемая жаждой ощущать его присутствие!
Все эти месяцы я пыталась объяснить, чем Бен так привлекал меня. Я была поглощена им полностью, но ясно осознавала различия, существующие между нами. С первого взгляда мне было понятно, что в интеллектуальном плане у нас было мало общего, что наше мировоззрение, привычки, вкусы сильно разнятся. Несмотря на степень доктора медицинских наук и работу с бедняками, в нем ощущалась интеллектуальная незрелость и социальная наивность. Он сочувственно относился к маргиналам, понимал их и был для них щедрым другом, но ему не хватало подлинного общественного сознания или понимания великой борьбы человечества. Подобно многим американским либералам он боролся с симптомами общественного зла, не понимая причин его возникновения. Уже этого было достаточно, чтобы нас разделить, а ведь были и более основательные расхождения во взглядах.
Бен, как типичный американец, любил публичность и шоу. Те самые вещи, что я больше всего ненавидела, были присущи мужчине, которого я так самозабвенно любила. Наши первые серьезные разногласия произошли из-за газетного фотографа, с которым Бен договорился на съемку без моего согласия. Это случилось во время нашей поездки из Чикаго в Солт-Лейк-Сити. Фотограф ехал в том же поезде, и Бену непременно понадобилось сказать ему, что среди пассажиров находится Эмма Гольдман. На следующей станции, гуляя по платформе, я оказалась прямиком перед фотоаппаратом, готовым снимать. Меня всегда раздражали беспардонные американские методы, и я старалась уклоняться от подобных встреч. Но в этот раз мне было некуда бежать. Я инстинктивно закрыла лицо газетой. Бену это показалось капризом. Он не мог понять глубоко укоренившееся во мне отвращение к дежурной навязчивости газетчиков. Было выше его понимания, что человек, который столько лет был публичной персоной, до сих пор содрогается от вульгарности превращения жизни в шоу.
Обычно в поездках мне удавалось переезжать из города в город инкогнито. Но в этом турне все пассажиры, проводники и даже начальники станций были в курсе, что на этом поезде путешествует Эмма Гольдман. Наш вагон, как магнит, притягивал всех зевак в округе. Для Бена это было манной небесной, а для меня — пыткой.
Кроме того, Бену было присуще американское чванство, которое он с особым смаком демонстрировал на митингах или в гостях у товарищей. Неприязнь к его манерам очень меня тревожила, я в постоянном напряжении ждала, что он выкинет на этот раз. Мой любимый и впрямь обладал множеством качеств, которые действовали мне на нервы, шли вразрез с моими вкусами и даже казались мне подозрительными. Но все это меркло перед магическим притяжением к нему, наполнявшим душу теплом и светом.
Я находила этому лишь два объяснения: во-первых, по-детски невинная природа Бена, лишенная всякой хитрости, его неиспорченность и неотесанность. Что бы он ни говорил, это выходило спонтанно, по причине большой эмоциональности. Это было редкое и обаятельное качество характера, хотя часто приводящее к неожиданным последствиям. Второе касалось моей тоски по человеку, который любил бы меня как женщину и одновременно помогал в работе. В моей жизни не было еще никого, кто удовлетворял бы обоим требованиям.
Саша был со мной очень недолго, и он был слишком увлечен Делом, чтобы заметить женщину, жаждавшую самовыражения. Ханнес и Эд, так меня обожавшие, видели во мне просто женщину, остальных привлекала только моя известность. Федя был уже в прошлом. Он женился, стал отцом и исчез из моего поля зрения. В дружбе с Максом, всегда освежающей, было больше понимания, чем чувств. Бен появился как раз тогда, когда я в нем очень нуждалась; четыре месяца, проведенные вместе, доказали, что в нем воплотились все качества, которые я так долго искала.
Он уже многое привнес в мою жизнь. Он с готовностью помогал мне в работе и доказал свою незаменимость. Занимаясь делом с полной самоотдачей, Бен добился впечатляющего роста массовости митингов и продаж литературы. Путешествовать вместе с ним было новым восхитительным опытом. Он был трогательно нежен и заботлив; больше всего мне нравилось, что он ограждал меня от мелких неудобств и хлопот, связанных с поездками. Как любовник он пробуждал во мне такую страсть, что все различия между нами разлетелись, словно солома в ураган. Ничего не имело значения теперь, кроме осознания, что Бен стал неотъемлемой частью меня. Я хочу, чтобы он был рядом, разделил со мной жизнь и работу, чего бы это ни стоило.
А что цена будет немалой, я поняла, заметив неприязнь к нему, которая росла в наших кругах. Некоторые друзья признавали способности Бена и его ценность для движения. Другие же были настроены враждебно. Разумеется, Бену приходилось несладко в этой ситуации. Он не мог понять, почему люди, выступающие за свободу, не принимали того, кто ведет себя так естественно. Он особенно нервничал из-за моих нью-йоркских друзей. Как они отнесутся к нему и нашей любви? Что скажет Саша? Рассказ о Сашином поступке, его заключении и страданиях взволновали Бена. «Я вижу, что Беркман — твоя величайшая страсть, — как-то сказал он. – Никто не сможет с ним сравниться». «Не страсть, а данность, — сказала я. – Саша в моей жизни так давно, что мы уже приросли друг к другу, как сиамские близнецы. Но не стоит переживать из-за соперничества с ним. Саша любит меня головой, а не сердцем».
Это его не убедило, и я видела, что он волнуется. Я и сама переживала из-за различий в их характерах. Но я надеялась, что Саша, который опускался на дно жизни, поймет Бена лучше других. Что касается Макса, я знала: вне зависимости от реакции на Бена, деликатность верного друга не позволит ему омрачить мою любовь.
Поддерживать издание Mother Earth стоило все больших усилий. Помощи соратников и американских друзей было недостаточно. Турне стали главным источником дохода для журнала, издания литературы и других затрат. Последняя поездка принесла нам необычайно щедрые сборы, но к августу мы вновь остались без средств. Новое турне могло начаться не раньше октября. К счастью, помощь пришла с неожиданной стороны.
Моя подруга Грейс Поттер, одна из сотрудниц Mother Earth, работала в New York World. Она уговорила своего редактора опубликовать мою статью «Что я думаю». Грейс сообщила, что мне заплатят за материал двести пятьдесят долларов, и я могу написать, что мне захочется. Я приняла предложение, радуясь возможности обратиться к широкой аудитории и одновременно подзаработать. После публикации статьи без малейших исправлений, мне предоставили право издать ее в виде брошюры. «Что я думаю» стала бестселлером. С выручки мы смогли оплатить выпуск следующего номера и еще осталось на билет до Нью-Йорка для Бена.
Я ждала его приезда, как влюбленная школьница. Он явился со своим энтузиазмом и готовностью полностью отдаться работе над нашим журналом. Он был самим собой, когда мы оставались наедине, но его было не узнать в присутствии моих друзей. С ними он становился более нервным, молчаливым и хмурым или задавал глупые вопросы, вызывающие подозрения. Я была сама не своя от огорчения, но понимала, что таким Бена делает паника, и надеялась, что на ферме он будет чувствовать себя более расслабленно. Жизнь там была проще — Бен сможет прийти в себя, и Саша, живущий на ферме с Беки и другими друзьями, будет терпелив и поможет ему освоиться.
Мои надежды не оправдались. Не то чтобы Саша или остальные не были добры к Бену, но атмосфера накалилась, и никто не мог найти подходящих слов. Эта ситуация действовала на Бена, как на ребенка, от которого ожидают хорошего поведения. Он начал рисоваться и хвастаться, бахвалиться своими подвигами и нести чушь, что только ухудшало ситуацию. Я стыдилась Бена, горько обижалась на друзей и злилась на себя за то, что привезла его сюда.
Больше всех меня расстроил Саша. Он не сказал Бену ни слова, но наговорил много колкостей мне. Он смеялся над тем, что я могла полюбить подобного человека. Саша был уверен, что это мимолетное увлечение. Он считал, что Бену не хватало социального сознания, бунтарского духа, еще он не принадлежал к нашему движению. Кроме того, он был слишком невежественным для человека, который закончил колледж и получил степень. Саша сказал, что напишет в университет и прояснит этот вопрос. Услышав такое от Саши, я разозлилась окончательно. «Ты фанатик! — кричала я. — Ты судишь человека исключительно с точки зрения полезности для нашего дела, как делают христиане с позиции церкви. Так ты относишься и ко мне после того, как вышел из тюрьмы. Годы борьбы и страданий, которые я перенесла, развиваясь, для тебя ничего не значат, ведь ты застрял в рамках своей догмы. При всех рассуждениях о пользе движению ты отталкиваешь человека, который пришел узнать о твоих идеях. Ты и другие интеллектуалы разглагольствуете о человеческой природе, но стоит появиться кому-то из обычных людей, вы даже не пытаетесь его понять. Но все это никак не касается моих чувств к Бену. Я люблю его и буду биться за него до смерти!»
Мы с Беном уехали с фермы. Я страдала из-за сцены с Сашей, из-за резких слов, которые бросила ему в лицо, и изводила себя сомнениями. Я была вынуждена признать, что многое из того, что Саша сказал о Бене, правда. Я лучше других видела его изъяны и знала обо всех недостатках. Но я не могла не любить его.
В моих планах было провести зиму в Нью-Йорке. Я устала от поездов, незнакомых мест и окружения посторонних людей. Здесь был мой дом, пусть маленький и тесный. Mother Earth тоже нуждался в моем участии. Если я буду читать лекции всю зиму, уверена, что смогу привлечь значительную еврейскую и англоязычную аудиторию. Я обсудила это с Беном, и он решил переехать в Нью-Йорк и посвятить себя помощи в моей работе.
Но теперь Бен ненавидел город и дом 210 на 13-ой Восточной улице. Он чувствовал, что здесь у него не выйдет ничего хорошего. Путешествуя со мной, он мог усердно работать, расти, развиваться, становиться сильнее. Мне тоже хотелось сбежать от разногласий и контроля своего окружения. Я хотела дать Бену шанс разобраться в себе, проявиться с лучшей стороны.
В прошлом году меня приглашали в Австралию. Джон Уильям Флеминг, самый активный товарищ из этой страны, даже собрал денег мне на билет. Тогда я не могла решиться уехать так далеко и долго путешествовать в одиночестве. На пару с Беном поездка превратится в удовольствие и даст мне возможность отдохнуть от распрей. Бен был без ума от этой идеи, не мог говорить ни о чем другом и хотел отправляться в Австралию немедленно. Однако к двухлетнему туру нужно было тщательно подготовиться. Мы решили ехать в октябре в Калифорнию, читая лекции по пути. К февралю мы поедем по стране, соберем достаточно денег, чтобы обеспечить наши тылы в Нью-Йорке, а затем поплывем в новую землю, где можно встретить новых друзей и пробудить новые умы и сердца.
Единственным поводом для волнения был Mother Earth. Согласится ли Саша продолжить заниматься журналом? Приехав из последнего турне, я нашла его более приспособленным к жизни, более уверенным в себе и увлеченным журналом сильнее, чем раньше. Кроме прочего, пока меня не было, Саша начал заниматься своими собственными делами. Он организовал Анархистскую федерацию с отделениями по всей стране и приобрел много поклонников и друзей. Когда я рассказала Саше о запланированном путешествии в Австралию, он был удивлен столь внезапному решению, но заверил, что я могу не беспокоиться относительно наших дел в Нью-Йорке. Он за всем присмотрит, а Макс с Ипполитом помогут обеспечить журнал и редакцию всем необходимым. Мне было грустно, что Саша не выразил сожаления по поводу моего длительного отъезда, но я была слишком поглощена грядущим приключением, чтобы позволить этому равнодушию как-то на меня повлиять.
Мы отправили полторы тысячи фунтов литературы в Викторию (Австралия). Переписываясь с друзьями по дороге в Калифорнию, мы за несколько недель подготовили все к путешествию. Бен был в предвкушении открытия новых земель. «Весь мир должен узнать, на что способна моя мамочка», — провозглашал он.
В День труда в Купер Юнион должен был пройти митинг безработных. Бен помогал его организовать и был приглашен в качестве оратора. Я хотела, чтобы он произвел хорошее впечатление и уговаривала его подготовить записи. Он старался, но у него ничего не вышло. То, что он мог сказать, не столь важно, заявил Бен. Главное, чтобы публика услышала Эмму Гольдман, и раз уж меня не пригласили, я должна написать речь, с которой хотела бы обратиться к подобному собранию. Это было фантастическое предложение, как и большинство идей Бена, но я предпочла подготовить короткое выступление о значении Дня труда, лишь бы он не выступал с бессвязной речью.
На Купер Юнион собрались толпы. «Отряд анархистской полиции» присутствовал в полном составе, также были мы с Сашей, Беки и Ипполитом. Все шло хорошо: Бен, читая по бумажке, удерживал внимание публики куда лучше, чем я ожидала. В конце он объявил, что речь, которую прочитал, подготовила «самая оболганная среди анархистов женщина, Эмма Гольдман». Зал разразился овацией, но в организационном комитете началась паника. Председатель стал многословно извиняться за это «досадное происшествие» и принялся с жаром критиковать Бена. Тот уже спустился со сцены и не мог ответить. Саша поднялся, чтобы возразить. Прежде чем его услышали, полиция вытащила Сашу из зала и поместила под арест. Беки, которая последовала за ним, тоже арестовали, затем обоих отвезли в полицейский участок. Там они предстали перед дородным дежурным, который встретил их замечанием: «Они должны были приехать на носилках». Ипполит пошел в участок, чтобы узнать о судьбе наших друзей, ему отказали в информации. «Наконец мы поймали сукиного сына, анархиста Беркмана, — сказали ему, — на этот раз мы его исправим».
Нью-йоркское отделение полиции неоднократно пыталось схватить Сашу. В прошлом году после взрыва на Юнион-сквер им почти удалось привлечь его. Я, естественно, переживала за Сашу и поэтому немедленно обратилась к Майеру Лондону, адвокату-социалисту, и нашим друзьям за помощью в его освобождении.
Майер Лондон с Ипполитом несколько часов ждали в полицейском участке, чтобы увидеть Сашу и Беки, прежде чем их отвезут на ночной суд. Наконец им сообщили, что дело не будет рассматриваться до утра. Не успели они уйти, наших друзей поспешно отвезли в суд и обвинили, не дав сказать и слова в свою защиту. Сашу приговорили к пяти дням работного дома за «мелкое хулиганство», а Беки оштрафовали на десять долларов за «бродяжничество».
Беки не хотела впутывать меня в это дело, поэтому не рассказала, где ее дом. Фактически она жила с нами уже больше двух лет. Ее арестовали на одном из наших митингов, за что исключили из школы. Дома у Беки было тесно и очень бедно, и я пригласила ее жить в нашей квартире. Штраф за нее заплатил наш милый друг Болтон Холл.
На следующий день газеты были полны сенсационных историй о том, что «своевременные действия полиции предотвратили беспорядки», и, как водится, несколько дней меня преследовали репортеры. Я не обращала внимания на их назойливость: я была слишком рада тому, что Саше дали столь небольшой срок. Что такое пять дней для человека, который пробыл в тюрьме четырнадцать лет? Я поехала на Блэквелл-Айленд повидаться с ним. Это воскресило в памяти мое собственное пребывание на острове и две поездки в Западную тюрьму. Насколько иначе все было тогда, насколько безнадежно, как были слабы шансы Саши выйти на свободу живым! А теперь мы оба шутили по поводу срока в пять дней. «Я в два счета их отсижу», — смеялся Саша. Я оставила его с прежней уверенностью в том, что, какими бы ни были наши разногласия, дружба останется вечной. Мне было все еще больно из-за его отношения к Бену, но я знала: ничто не разлучит нас.
К моему отъезду было все готово. Бен должен был поехать раньше, чтобы заняться предварительной работой. За пару дней до отъезда он прислал мне письмо на тридцати страницах — сумбурный, бессвязный рассказ о том, что с ним происходило с момента нашей первой встречи. Он писал, что прочел «Власть лжи» норвежского писателя Бойера: произведение его тронуло до глубины души, и он чувствовал потребность признаться мне в неправде, которую мне говорил, и рассказать о подлых поступках, которые совершал, пока мы были в турне. Все это не давало ему покоя. Он больше не мог молчать.
Он солгал, когда сказал, что никому не раскрывал моих планов выступить на том званом вечере в Чикаго в марте прошлого года. Он не сообщал в полицию, но поделился информацией с журналистом, который пообещал держать все в секрете. Он солгал, когда назвал «важные дела» поводом не прийти ко мне тем же вечером и объясниться по поводу присутствия полиции. Прямо с митинга он отправился к девушке, которая ему нравилась. Он солгал, когда сказал, что у него достаточно денег, чтобы поехать со мной. Деньги он одолжил, а после возвращал их с продаж нашей литературы. Еще он брал деньги из выручки, чтобы отсылать их матери. Он ее безмерно любил и заботился о ней. Он не смел признаться, что у него на попечении находится мать — боялся, что я его прогоню. Всякий раз, когда я удивлялась тому, куда пропадают деньги из кассы, он лгал. Все отговорки, которые он придумывал, исчезая после митингов или уходя куда-то днем, были ложными. Он проводил время с другими женщинами, которых встречал на лекциях или где-нибудь еще. Почти в каждом городе он бегал по девкам. Он не любил их, но физически они привлекали его до безумия. Он был одержим женщинами, и возможно, так будет всегда. Но они не более чем мимолетное увлечение. Он забывал их тут же, иногда даже не знал их имен. Да, он ходил к другим женщинам все четыре месяца, но любил только меня. Он обожал меня с первой встречи, и с каждым днем его страсть возрастала. Я была главной движущей силой его жизни, а моя работа — его главной заботой. Он докажет это, если только я не прогоню его, если прощу его ложь и предательство, если снова поверю ему. Но даже если я отвернусь от него, прочитав это письмо, он все равно испытает облегчение, потому что сказал правду. Теперь он осознает, насколько разрушительна и губительна власть лжи.
Я будто провалилась в болото. В отчаянии я вцепилась в стол и хотела закричать, но у меня перехватило горло. Я села, онемев, ужасное письмо, казалось, ползет ко мне, слово за словом, и засасывает в грязь.
К реальности меня вернул Саша. Из всех людей на земле прямо в эту минуту явился именно он! Что он скажет об этом письме, которое доказывало справедливость его мнения о Бене?! Я разразилась гомерическим хохотом.
«Эмма, что за ужасный смех. Как ножом режет. Что случилось?» — «Ничего, ничего, мне просто нужно выйти на улицу, или я задохнусь».
Я схватила пальто и шляпу и пробежала вниз пять пролетов. Я гуляла по улицам несколько часов, а письмо все горело у меня перед глазами.
И это мужчина, которого я впустила в свое сердце, в свою жизнь, в свою работу! Дура, что за влюбленная дура, ослепленная страстью, не замечавшая того, что видели все вокруг! Я, Эмма Гольдман, как ординарная сорокалетняя женщина увлеклась молодым мужчиной, незнакомцем, встреченным на случайном митинге, которому были чужды мои мысли и чувства, который был противоположностью моему идеалу мужчины. Нет, нет! Это невозможно! Письмо не может быть правдой, все это выдумка, игра воображения, так просто не может быть. Бен впечатлителен, подвержен любому влиянию, всегда отождествляет себя с героями книг, которые читает. Он любит драматизировать себя и свою жизнь. Трагедия крестьянина в романе Бойера, который бездумно, без необходимости лжет и вынужден лгать до самой смерти, чтобы поддержать свою первую ложь, весьма жизненна. Бен, должно быть, увидел себя в этом персонаже. Вот и все. Должно быть все. Так я думала, часами бродя по городу, разрываемая между страстным желанием поверить ему и чувством, что я отдалась мужчине, лишенному чести, созданию, которому я больше никогда не смогу довериться.
Последовали дни мучений, я пыталась найти причину и оправдание поступкам Бена, и это были попытки, раздражающие и бесплодные. Опять и опять я повторяла себе: «Бен — выходец из мира, где ложь — основа всех человеческих отношений. Ему невдомек, что вольные духом в любви и работе честно и откровенно делятся всем, что преподносит им жизнь, что среди людей с идеалами никому не нужно обманывать, воровать или лгать. Он из другого мира. Какое я имею право судить, я, кто учит новым жизненным ценностям?» Но его озабоченность? Его похождения с другими женщинами? Сердце восставало против этого. «Женщин он не любит и даже не уважает. Этому тоже есть оправдание? Нет, нет!» — поднялось из глубины моей женской души. «Да, — отвечал разум, — если такова его природа, его основная потребность, как я могу возражать? Ведь я пропагандирую свободу в сексе. У меня самой было много мужчин. Но я любила их, я бы никогда не пошла с любым без разбора. Будет больно, мучительно знать, что я одна из многих в жизни Бена. Это будет страшной платой за мою любовь. Но ничто не представляло для меня интереса, если не было получено ценой больших жертв. Я дорого заплатила за право быть собой, за свои общественные идеалы, за все, чего добилась. Неужели моя любовь к Бену так слаба, что я не смогу заплатить за его свободу действий?» Ответа не было. Напрасно я пыталась примирить все конфликтующие идеи, которые столкнулись в моей душе.
Ошеломленная и едва осознающая, что происходит, я вскочила с кровати. Было еще темно. Как сомнамбула, я оделась, на ощупь добралась до Сашиной комнаты и разбудила его.
«Мне нужно увидеть Бена, — сказала я. — Проводишь меня к нему?»
Саша был ошарашен. Он включил свет и внимательно посмотрел на меня, но ничего не спросил. Без лишних слов он быстро оделся и пошел со мной.
Мы шагали молча. Голова кружилась, ноги были ватными. Саша взял меня за руку. В моей сумочке лежал ключ от дома, где поселился Бен. Я вошла внутрь, на мгновение обернулась, бросив взгляд на Сашу. Ничего не сказав, я закрыла дверь, взбежала на два пролета и ворвалась в комнату Бена.
Он подскочил с криком: «Мамочка, наконец ты пришла! Ты простила, ты поняла». Мы вцепились друг в друга, и мир вокруг перестал существовать.